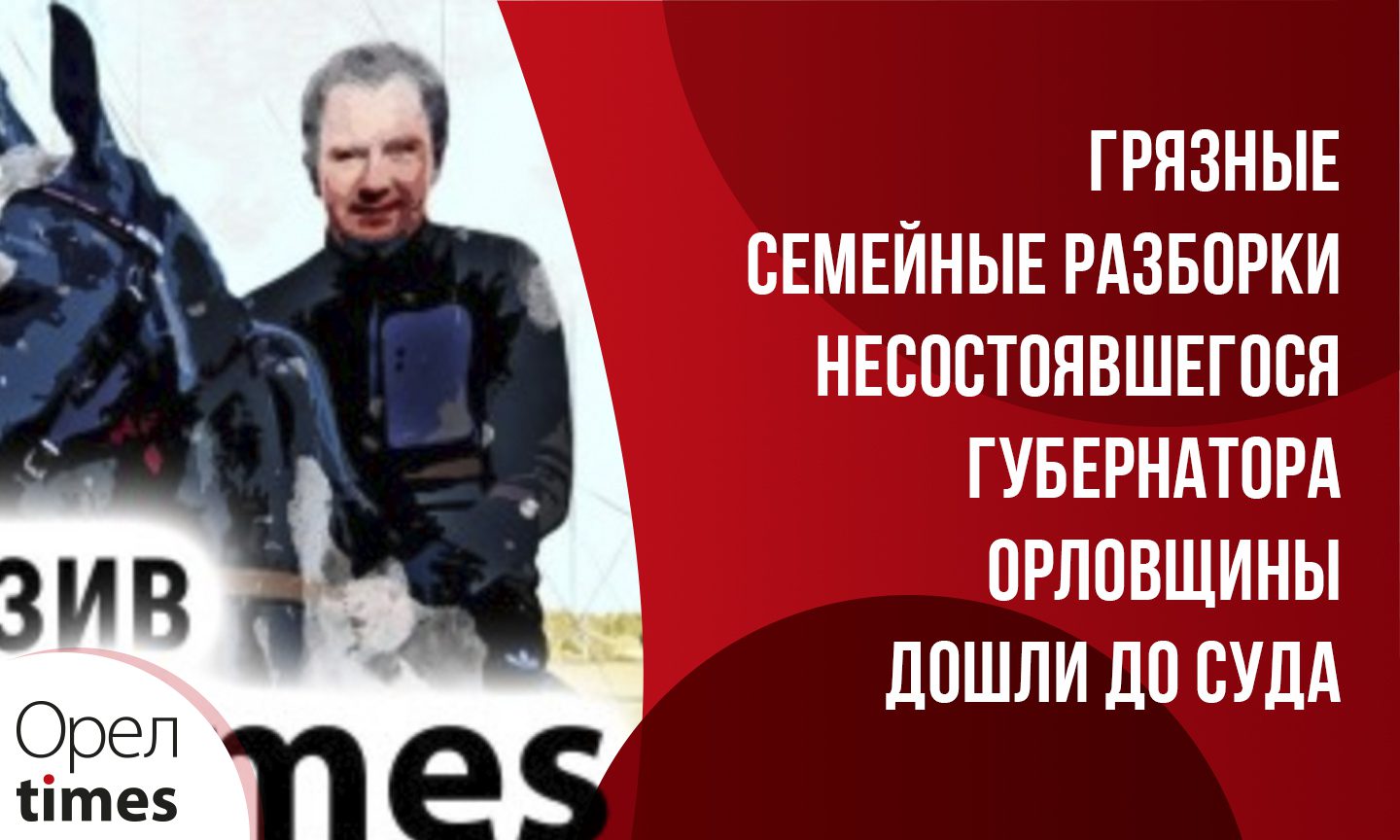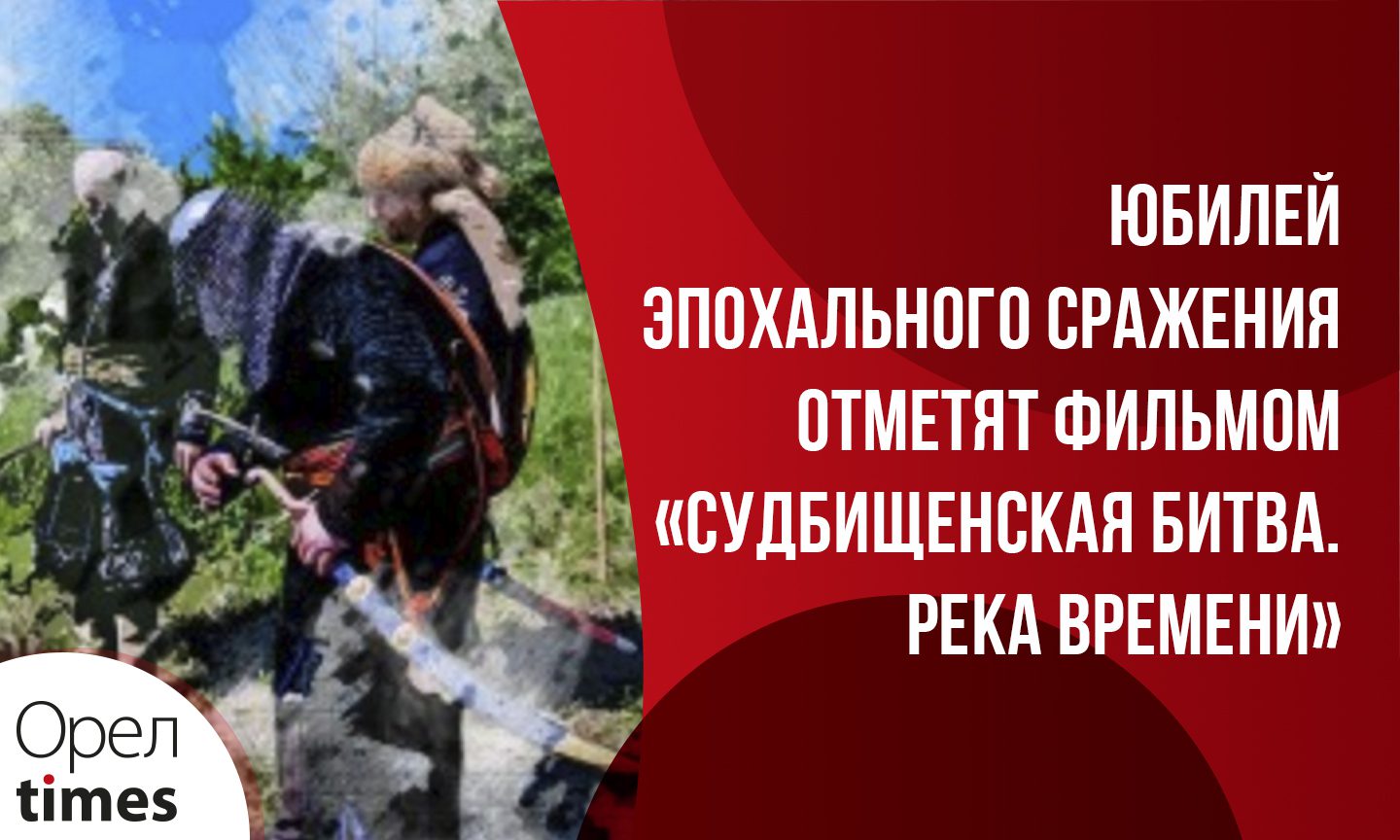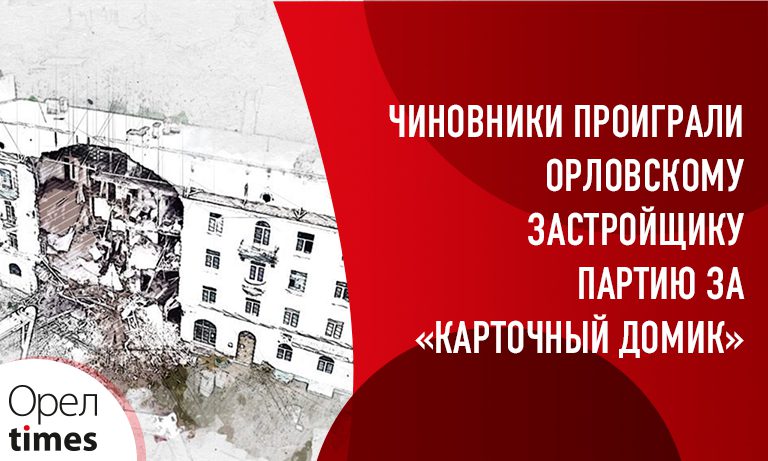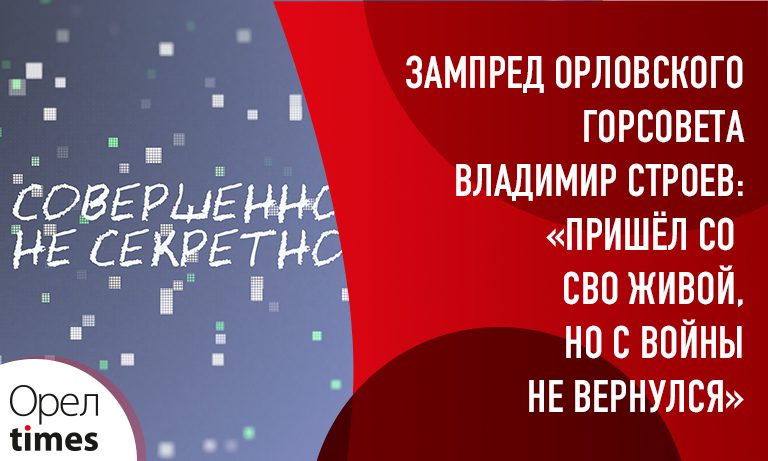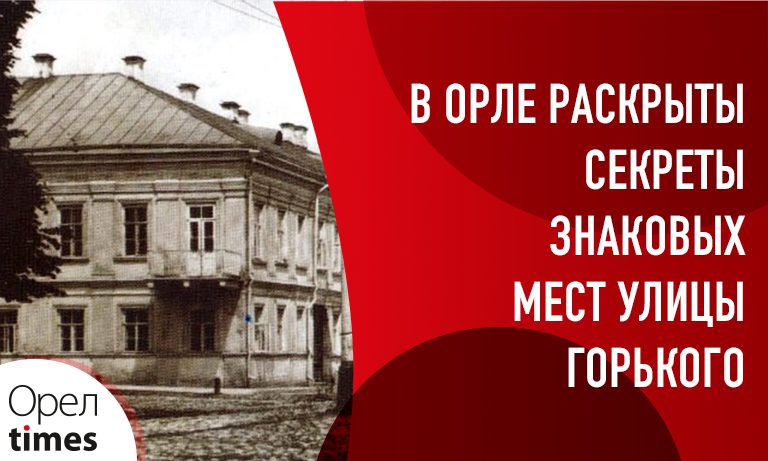Психиатрия вновь становится карательной?
Сегодня в психологии и психиатрии много случайных людей и много перегибов. Почему такое происходит? О проблемах говорим с психотерапевтом и клиническим психологом Александром Докукиным.

– Александр Георгиевич, у нас долгое время было не принято ходить к психологу. Есть у человека проблема, он её либо внутри себя переживает, либо внутри семьи, и, как правило, от этого она только усугубляется. Это что, такой менталитет у нас, необразованность или безалаберное отношение к своему здоровью?
– У нас всё, что касается приставки “психо” воспринимается негативно, особенно людьми старшего возраста. Всё просто: в советское время они столкнулись с полным отсутствием психологии – ходили в партбюро, в профком, в гараж выпить и перетереть проблему…
Но была психиатрия, а она сосредотачивалась в психбольницах. И у целого поколения сложилось такое предубеждение, что “психо” – это обязательно лечебница для сумасшедших.
Но психиатрия давно изменилась и вышла из больниц на амбулаторное лечение. Появились препараты, приём которых исключает госпитализацию. И сейчас многие психиатрические состояния хорошо лечатся вне больницы, не отрывая человека от работы, семьи.
Сейчас меняются представления о психиатре, психологе. Но не так быстро, как хотелось бы.
– В чём разница между психологом и психиатром?
– Психиатр работает с патологией, с очевидными признаками болезни. Психолог – со здоровой психикой, но с какими-то затруднениями. Есть целый ряд состояний, которые эффективно лечат и психологи, и психиатры. Чёткой грани, где кончается компетенция одного специалиста и начинается работа другого, нет.
– Какие проблемы чаще всего приводят к психологу? Можно сделать некий срез проблем, скажем, десятилетней давности и современности?
– Десять лет назад не было чисто психологических проблем. К специалисту шли тогда, когда было уже очерченное расстройство. Сейчас уже отталкиваются от взаимоотношений: у человека не получается наладить отношения с партнёром, найти общий язык в коллективе и т.д.
Изменилась и структура патологии. Если раньше это были шизофрения, эпилепсия, дементные расстройства, то сейчас в разы увеличилось количество депрессий, психосоматики, панических атак. Разница объясняется тем, как жило общество. 80-е годы – спокойные. Мы были уверены в будущем, чего нет сейчас. Сегодняшнее напряжение, борьба за работу, стремление к растиражированным критериям – успешности, красивой жизни, легких денег – увеличили количество пограничных психических расстройств.
А вот количество шизофренников и эпилептиков осталось тем же. Но изменилась сама шизофрения. Если раньше это, в основном, были бредовые расстройства – прилетали инопланетяне, светили лучами, забирали полетать на тарелке, то сейчас эти классические варианты крайне редки. Шизофрения стала более лёгкой. Часто протекает по типу депрессии. В этом году у меня было 18 случаев шизофрении и ни одного случая с бредовыми расстройствами.
– Сейчас так много психологов. Как отличить хорошего психолога от плохого?
– Хороший психолог чётко понимает свои границы: это – моё, а это – уже психиатрия. У меня был случай, когда пациент с бредом, а в последствии у него выявилась шизофрения, три года ходил к психологу. Его три года назад лечить нужно было, а психолог не видел бредовых образований. О чём это говорит? Об одном: у психолога должно быть хорошее базовое образование.
Одно время, которое, слава Богу, заканчивается, считалось, что психолог обязательно должен лезть вглубь, всё вытаскивать наружу, заставлять человека что-то осознавать. Ничего, кроме психотравм, это не вызывало. Не готов человек обнажать своё потаённое, а его таким образом загоняли на повторные травмы. Хороший психолог чётко оценивает ситуацию: тут можно поработать, а здесь пока лучше не трогать, а если и трогать, то только после серьёзной работы с пациентом, когда тот сам захочет идти в эту самую глубину. Понимать нужно своего пациента, чувствовать.
К глубочайшему сожалению, психология сейчас заброшена. Если вы решите заняться сантехникой, вам надо получить лицензию. А чтобы заниматься психологией, лицензии не нужно! Поэтому в психологию приходит немало случайных людей. Работал человек массовиком-затейником и вдруг ни с того ни с сего объявляет: теперь я психолог. Прослушал где-то 140 часов лекций и гарантирует решение проблем. Как только заявляется такая гарантия, надо разворачиваться и убегать от такого «специалиста».
Работа психолога – совместная работа пациента и специалиста, где у каждого своя зона ответственности. Без самого человека психолог мало что сделает. Он его помощник, мотиватор. Основную часть работы над собой и своей жизнью должен делать сам пациент.
– Александр Георгиевич, вы в психиатрии с 1980 года. В 1986 году возглавили Орловский областной психиатрический диспансер, были главным психиатром облздравотдела. При вас началось реформирование областной психиатрической службы, которую в то время отличал высокий профессионализм. Не обидно за то, что сейчас происходит: раздрай в системе, наводнение её «массовиками-затейниками», а главное – возвращение элементов карательной психиатрии, каковой последняя была в годы репрессий?
– Конечно, обидно. В орловских психобольнице и в диспансере очень много замечательных врачей, психологов, медсестёр, которые искренне стараются помогать своим пациентам. Но сегодня Минздрав не занимается насущными медицинскими проблемами. И в психиатрии многое им извращено. Например, у человека проблема. Он пришёл в психодиспансер. На него завели карточку, выписали лекарство. Две-три недели лечения, и человеку стало лучше. Он идёт в психодиспансер, говорит, что всё у него хорошо и нужна справка на работу. А ему говорят: какой же вы хороший? Вы же к нам обратились, значит, уже не настолько хороший. Давайте-ка подумаем, сможете вы работать сторожем или не сможете?..
Вот издали “замечательный” приказ, когда практически по любой специальности требуется заключение психиатра. Зачем? Получается, что когда человеку, действительно, нужно обратиться к психиатру, он уже не пойдёт. Создан искусственный барьер.
А вообще если человек пролечился, то психиатр должен его сопровождать и дальше. Он не должен позволить уволить человека, должен отстаивать его, писать бумаги о том, что это замечательный гражданин. По крайней мере, так делалось в мою бытность. Тогда у человека будет смысл и потребность продолжать наблюдаться в психодиспансере, проходить необходимое лечение.
Сегодня у пациента нет такого смысла, потому что он никому не нужен, за ним не стоит врач, который должен его отcтаивать. Мне довелось столкнуться с парадоксальными вещами. Прекрасный специалист, победитель профессионального конкурса заболела, стала на учёт в психоневрологический диспансер. И вскоре её уволили с работы, потому что она стоит на учёте у психиатра!
– Мне сразу вспомнилась жуткая история с няней, которая убила дочку наших земляков – из Ливенского района. Убийца стояла на учёте в психодиспансере…
– Да, женщина стояла на учёте, но она не наблюдалась у психиатра, соответствующих лекарств не получала. Я имею ввиду другое: человек лечится, постоянно наблюдается, и его защищают.
В 80-е годы у нас было четыре группы диспансерного наблюдения. При активном наблюдении пациенты должны были ходить каждый месяц. Ещё и характеристику врачу с работы приносили. Был контроль. Во всех районных больницах работали психиатры, в поликлиниках – психотерапевты. Была экстренная психологическая служба, работал телефон доверия. А затем началась оптимизация, которая довела медицину до плачевного состояния.
– Александр Георгиевич, сейчас в Интернете есть масса юридических консультаций, всевозможных обучающих курсов. А вот психологом можно работать “на удалёнке”?
– Есть психологи, которые только так и работают.
– И это нормально? Мне всегда казалось, что должна быть некая связь между психологом и пациентом, но уж никак посредством Интернета…
– Вот мы сидим с вами рядом, вы эмоционально чувствуете меня, я – вас. Очень часто человек приходит к психологу и говорит о чём-то отдалённом, но его чувства, мимика, жесты свидетельствуют совершенно о другом. Этот дисбаланс ощущается при непосредственном контакте. И он полностью теряется в Интернете. Через Интернет можно видеть то, о чём человек вербализует – говорит, а вот то, что он на самом деле чувствует, – нет. По крайней мере для меня так.
– А вы сами обращаетесь к психологам?
– Раньше случалось. В основном, это было связано с обучением, ведь все практики мы отрабатываем на себе. В такие моменты и вылезают наши «тараканы». Совместно с коллегами направляли их в нужное русло, чтобы они на нас работали, а не мы на них.
У нас другая система: если я чувствую, что с каким-то пациентом что-то не ладится, я обсуждаю ситуацию с коллегой, который смотрит на это со стороны и показывает, где я не так сработал, где вылезли мои внутренние проблемы и помешали работе.
– Александр Георгиевич, как в наш в сумасшедший век оставаться человеком со здоровой устойчивой психикой?
– Единого рецепта нет. У каждого из нас своя система ценностей, приоритеты в жизни. В первую очередь, необходима мудрость – соотнесение своих возможностей и желаний. Важна гармония – принятие того, что человек имеет, стремление к тому, что для него действительно важно. Отсутствие погони за Васей, который купил крутую машину, и Машей, которая красуется в новой шубе. Тогда жить будет спокойнее.
А ещё очень важен круг людей, которые тебя поддерживают. Должна идти позитивная компенсация от мира.
Подписывайтесь на ОрелТаймс в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Дзен, следите за главными новостями Орла и Орловской области в telegram-канале Орёлтаймс. Больше интересного контента в Одноклассниках и ВКонтакте.